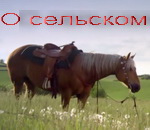|
О книгах.---->
Несколько книг Ивана Шмелёва---->
Солнце мёртвых. Содержание.
ЧАСТЬ 14. В ГЛУБОКОЙ БАЛКЕ.
В море начинает белеть -- в море рассвет виднее, -- но горы еще ночные, в долинах -- мгла.
Намекают по ним беловатые пятна дач. Время идти в Глубокую балку, по холодку, -- рубить.
Топор и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень горки. Все -- на пороге нового дня и -- спит. Невесело просыпаться.
Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа... красный огонь на вымпеле!.. Не ушел еще "истребитель". Семеро могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза -- в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут, -- запоздали? Делают это обычно глухою ночью. Или хотят показать, как встает над родными горами солнце, в последний раз?..
Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? Не погромыхивает с шоссе раннею таратайкой? Или пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка -- единственный знак рассвета?..
Нет... Я слышу унылый крик -- неумирающий голос с минарета. Стоит над городком белая, тонкая свеча -- и только одна она еще посылает измученный привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над морем, над всем, что на них и в них, пребывает Великий Бог, и будет пребывать вечно, и все сущее -- Его Воля. Вознесите великому молитву за день грядущий!
Пенится за кормой, и, бросая дугою след, "истребитель" уходит в море. Пошел -- на Ялту.
Их было семеро, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не сдавались. По Крыму их были сотни -- не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, селезней на утиный "кряк". Их поймали заманкой: объявили -- прощение. Они спустились с оружием -- своей честью -- почерневшие и худые, с тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпускали из рук винтовки. Они поглядывали к горам, где камни были для них -- родное: из камня выросли их аулы. Пока -- им не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах: смотрите -- друзья, союзники! покорились! Их кормили бараниной и поили вином -- братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках... Потом -- отобрали оружие: теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали, ночью. Потом... сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море -- швырнуть с камнями...
Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост.
Может быть, тут же, на берегу, их жены, матери... или из деревень горных видят черную лодочку на море и не чуют. Радуются прощенью, ждут: власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь -- ослепнут. Так ослепла старая татарка, над которою сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у палачей была.
-- Теперь можешь везти! -- сказали.
И она, счастливая, на горной глухой дороге целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач -- да камни. Да старик возница, сосед-татарик, тер кулаком глаза.
-- Не плачь, горькая женщина, -- сказал он. -- Лучше своя земля.
Этих не выдадут.
Я отрываю себя от моря, иду -- высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и Глубокая балка -- конец мыслям. Теперь -- бить крепче по пням дубовым, тысячелетним, в земле увязнувшим...
Здесь стены -- чашей, по ним -- корявые кусты граба, над головою -- небо. Рубить, не думать. А толканутся думы -- рвать их по зарослям, разметать, рассыпать. Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки...
Вот -- канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы, -- кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, -- забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, -- заросшее прошлое... рядом -- старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты и лжи? А где-то вознесшийся черный крест, заросший... Вон он, не затеряется: прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает-гудит в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель -- в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса: ветром загнуло-выгнуло тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос -- о чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю, горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко: в осенний ветер будет гудеть-выть Крест -- само естество живое -- в опустевшей Глубокой балке. Будет стонать, вопить. А вопросительный знак...
Я ударом срублю знак: он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать! Никаких вопросов! Конец и арфе, и канделябру, и старику... Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков! Пусть пустота -- и только.
Я вырубаю дубовые "кутюки" -- с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили... оба глаза... Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерки, желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки -- тихие жильцы балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырьях -- по знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного "богомола": в порыжевшей ряске, стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на Крест ли он молится, монах усохший? Или не видит, что на Кресте -- бутылка?!
Если бы только это: кусты и камни, в камнях и в норах живущее! Но есть и еще, другое...
Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета, -- и все, залившее кровью жизнь, ударяет меня наотмашь. Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутины...
Живут вещи в Глубокой балке, живут -- кричат.
Здесь когда-то -- тому три года! -- стояли станом оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штыками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине -- сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни -- "Шишман"... Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге. Валялся в пыли, на солнце фабрикант консервов в сюртуке и манишке, с вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок, свистящих дырьями на ветру. Одуревшие от вина, мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанта -- много стекла кругом! -- жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки.
Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками, спали с девками по кустам...
Славные европейцы, восторженные ценители "дерзаний"!
Охраняемые Законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о "величайшем из опытов" -- мировой перекройке жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее от покоя сердце, эти громкие побрякушки -- титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления осознавшего свою мощь гиганта-пролетариата... -- кучу гремучих слов, проданных за пятак беспардонно-беспутными строкописцами.
Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно. Ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист.
Невысока колокольня ваша: с нее не видно.
Покиньте свои почтенные кабинеты с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами: увидите затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите всё, если только хотите видеть! Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские -- дворцы, "роллс-ройсы" и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, -- добытое дерзаньем, -- куда приятней пустых панелей бродяжной жизни; что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью; что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны -- можно нанять штыки.
Пойдите сами!
Но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке столичного Гранд'Отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирно в "известиях" собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лейб-поваром а-ля рюсс, -- такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей без имени. И покажут гордому имени волшебную панораму... в рамке!
Нет! Вы дерзните пойти без имени, пойти в недра... И не глядите через куклак. Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть в яму.
Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане -- с берега. Величавое зрелище!
Пусто, глухо в Глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться выше -- увидишь белые петли шоссе на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же -- посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта больного юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к столбам, поставили, как бутылку, и расстреляли на приз -- за краги. А потом опять пили, жрали баранину и спали по кустам с девками.
Пьяными глотками выли "тырционал"...
За кустами граба и дубняка виднеется деревянный шпиль и красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров, бурых и беломордых -- Красулек, Полек, томно щурившихся на солнце, с ленцой жующих" когда бойкие бабьи руки позванивали играючи по ведрам. Помню мудрую хлопотню, сверкающие бидоны, громыхающие к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню -- пузатого мальчугана-трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке -- убегающего от кур с ревом, и круглоликую голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу вязкий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!.. благодатное какое солнце!..
Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и усохло море молочное...
Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там -- пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и завидущий, курокрад недавний и словоблуд, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к работнице погибавшей фермы и недававшуюся заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети... Пели по ней панихиду бабы, кричали при белом свете с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду убийцу. Ответили бабам -- пулеметом. Ушел от суда вихлястый курокрад Гришка -- комиссарить дальше.
Куда ни взгляни -- никуда не уйдешь от крови. Она -- повсюду. Не она ли выбирается из земли, играет по виноградникам? Скоро закрасит все в умирающих по холмам лесах.
Я рублю и рублю... Довольно: полон мешок "кутюков" дубовых, довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору... Солнце залило балку, над головой день полный и жарко-жаркий. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно зудят цикады. Дремлется на жаре...
Забиваем Сайты В ТОП КУВАЛДОЙ - Уникальные возможности от SeoHammer
Каждая ссылка анализируется по трем пакетам оценки: SEO, Трафик и SMM.
SeoHammer делает продвижение сайта прозрачным и простым занятием.
Ссылки, вечные ссылки, статьи, упоминания, пресс-релизы - используйте по максимуму потенциал SeoHammer для продвижения вашего сайта.
Что умеет делать SeoHammer
— Продвижение в один клик, интеллектуальный подбор запросов, покупка самых лучших ссылок с высокой степенью качества у лучших бирж ссылок.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз,
а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Зарегистрироваться и Начать продвижение
Часть 15. Игра со смертью.
|