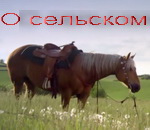|
О книгах.---->
Несколько книг Ивана Шмелёва---->
Солнце мёртвых. Содержание.
Часть 33. Тысячи лет тому...
Падает снег -- и тает.
Падает гуще, гуще... -- и тает, и вьет, и бьет. Ближние горы -- пегие. Стали пегими кипарисы, и виноградники, и плетни. А снег все сыплет и заметает в вихре, белит и кроет. И вьет, и метет, и хлещет... Зимой хватило от Бабугана, от Чатырдага -- со всех сторон. Крутит метелью и день, и ночь. Не черная Кастель-шапка, а исполинская сахарная гора -- голова на блюде, на белой скатерти. Седые, дымные стали горы, чуть видные на белесом небе. И в этом небе -- черные точки -- орлы летают.
Гонит снегами лесную птицу к жилью. Черные дрозды, с оранжевыми носами, шмыгают по пустым садам, выискивают во двориках. Остатки овечьих стад умные чабаны стерегут в кошарах: опасно пускать в долину. Смотрят на снег с тревогой: валит, а сена нет -- овцы начнут валиться. А над горами орлы летают. Не боятся орлы снегов: корму орлам достанет.
Бежит в снегу маленький татарин в бараньей куртке, лошадь из снега тянет. Кричит -- воет в белую пустоту на всю горку: -- Йей!.. бери коня... купай!.. Йей...
Спотыкается на кусты под снегом, волочит в поводу коня, бьется в мои ворота:
-- Ко-зяйй... Йей! коня бери... клеба давай, карей!.. все памирай... ой, бери... йей!
Еще с порога вижу, как он стучит себя по груди и топчется -- прыгает за шиповником. Татарин крохотный, черноусый, с обезумевшими глазами. Он хватает меня за рукав и тянет:
-- Пажалюста... бери коня! Йей!..
Из его горла рвется гортанный клекот. Он дергается лицом, глазами, словно вот-вот заплачет. С носа мутная капля виснет: слеза ли, пот ли, -- не разобрать. Совсем чумовой татарин. Дрожит-кричит, перекося рот, кривит почерневшее лицо, и все охлопывает коня по шее. А конь -- под черной шкурой скелет, с втянувшимися ноздрями, -- оскаленными зубами дерет шиповник. Запарил коня татарин, и сам запарился.
-- Йей! -- кричит он с болью в мои глаза, дергает меня за руку. -- Ну! твоя нада! пожалюста... бери конь! ну... клеба давай... мала-мала! Снег, зима пришел... Йей!..
Со страхом, с болью гляжу я в его обезумевшие глаза, убегающие от ужаса. Чумовой татарин! Закрыты на базаре лари, будет в кофейнях тыкаться.
А сумерки все густеют. Кастель синеет. У, какая пустыня там! Снеговая пустыня в падающей ночи. Я стою на холме и вглядываюсь в пустыню, пытаюсь ее постигнуть. Море -- черное, как чернила, берега -- белые. Громыхает поглуше -- от снега глохнет. И там пустыня. Одна на другую смотрит: черная, белая.
Тысячи лет тому... -- многие тысячи лет -- здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море, черная пустота, погромыхивало так же глухо. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверье, подшибал камнем, глушил дубиной, прятался по пещерам... на Чатырдаге и под Кастелью, -- они дожили и до сего дня. Видела эта вечная стена Куш-Каи, -- в себя вбирала, и теперь вбирает: пишет по ней неведомая рука. Смотрю и вбираю я. Снега синеют, чернеет даль. Нигде огонька не видно. Не было и тогда. Пустыня.
Вернулась из далеких далей. Пришла и молчанием говорит: я пришла, пустыня.
Я знаю: она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про Судак:
-- По дорогам горным хоронятся, за камни... подстерегают ребят... и -- камнем! И волокут...
Кругом -- с камнями. И в славном когда-то Бахчисарае, и в Старом Крыму, и... всюду. Каким же чудом швырнулись тысячелетия?! Куда свалился великий человеческий путь -- на небо?! великое восхождение и это гордое -- будем Боги?!
Я смотрю на вздувшийся под снегами камень: какая сила! Вышел из далей... -- вот он!
...Мое!..
Его.
-- Друг... -- говорю ему: -- нет у меня ничего!..
Но он не может понять.
-- Пажалюста... бери конь... Арабчук мой... седьмой зима... кароши, золотой! Кормить... ничего нема... снег пришел, зима... жалька... Йей!..
Он машет рукой на город, и я машу. И мы смотрим в глаза друг другу растерянно, безнадежно. Он вырывает слова из глаз, острых, черных, изо рта, кривого от нетерпения и страха, что поздно будет:
-- Йеййй!..
Стоит его визг в ушах. Провалился с конем татарин в снег, в балку. Слышно -- и там визжит.
Я иду по глубокому снегу, на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым снегом. Далеко внизу путается-чернеет с конем татарин, по снегу катится, за ним снеговая пыль... -- в город погнал татарин.
Он -- из Биюк-Ламбата?! Страна чудесного золотого табаку... Где такое... Биюк-Ламбат? Да, это совсем близко, двенадцать верст. Кто-то о нем говорил недавно?.. Кто-то помер! Да... от голоду померла у татар вдова художника русского... Ушла к татарам -- и померла... А его картины... за этими горами... О, снег какой... испугал чумового татарина. Сухую траву засыпал на много дней...
Сумерки надвигаются. Куда побежал татарин, в слепую ночь!
Я брожу по снегам, по балкам, без цели. Ведь я из далей. Я же тот самый дикарь пещерный. Но у меня нет и шкуры. У меня лишь истрепанное пальтишко, лезут змеиные зубки из башмаков, а в них мои зябкие пальцы, завернутые в тряпку... И я -- бессильный. Мне так понятна, близка та жизнь, жизнь моих давних предков! Снега и ночь, а у них... огня не было!.. Я сейчас пойду, затоплю печурку... а у них... не было!! И... они-таки победили?! Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи! Ты, Единый, дал им Огонь Небесный! Они победили им. Я это знаю. Я верую! И они же его растопчут. Я это знаю. Камень забил Огонь. Миллионы лет стоптаны! миллиарды труда сожрали за один день! какими силами это чудо?! Силами камня-тьмы. Я это вижу, знаю.
Синей Кастели нет: черная ночь -- пустыня. Храпит из балки, из темноты, -- конь запаленный дышит? Взрывая снег, у моих ног, из балки выкаты кается черное: татарин, за ним его черный конь. Хрипит татарин, и конь хрипит. Я бегу от него к воротам. Татарин бежит за мной...
-- Ты... бери... нема люди... ночь черный... Быюк-Ламбат... йей... бери... Аллах...
Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, хочет поводья вырвать?.. Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу парок над ним. Я отмахиваюсь от них, от призраков... стараюсь открыть калитку... Держит меня татарин, рукою молит... И вдруг...
-- Йей!.. -- вскрикивает татарин и чутко всматривается во что-то в балке.
Я ничего не вижу. Он срыву дергает повод, но конь уснул. Он бьет его кулаком по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит:
-- Йей! ханым! козяйк... бери... конь!.. Йей!..
Я напрягаю глаза, не вижу. Кому же кричит татарин? Найдется ли человек, кто снял бы с него напавший на него ужас? Никого не видно. Бежит за кем-то, кричит...
Я захлопываю калитку и ставлю кол.
Человек нашелся. Утро принесло весть: взяли коня у татарина. Понес чумовой татарин шесть фунтов хлеба в Биюк-Ламбат. Быть может, спасут коня. А как же теперь татарин?..
Говорил в городке дьякон:
-- Дурак татарин! Повали коня, ешь коня! Ему бы на месяц с семьей хватило, продержаться... Посоли мясо...
-- А соли-то нет, отец дьякон!
-- Мясо-то прокопти, без соли лопай!
-- А может, ему своего коня жалко было?..
-- Ко-ня жалко?! Как коня жалко, раз за шесть фунтов хлеба отдал?! Лупоглазый... Жалко?!.. А просто... голову потерял от страху!..
Воистину -- голову потерял чумовой татарин.
Три конца
Снег полежал три дня, тронулся и потек. Плывет грязь в балку. Торчат из грязи мокрые рога виноградника, иссохшие усы-петли. Испугал снег татарина -- и плывет. Отрыгнет еще земля травку -- прогреет солнцем.
Помер Андрей Кривой с нижнего виноградника. Ходил после "ванной" с неделю -- крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался -- "внутри ломит". А помер тихо.
Помер и Одарюк. Две недели места не мог найти: и ходить, и сидеть, и лечь -- все больно. Жаловался, что "клинья вогнали в поясницу" и под сердце давит. За две недели в сухенького старичка обратился, глотнуть не мог. Водицы испить просил: глотнет, а принять не может. Кричал шибко, как отходил:
-- Огне-ом... палит!..
Поглядел на детей, и выкатились из его глаз две слезы. А помер тихо.
И дядю Андрея выпустили после "ванной". Во всем сознался. Пришел на горку, на Тихую Пристань -- тихий, как после большой работы. Бродил по горке в майском своем костюме, почерневшем, скатавшемся, -- пищи себе искал. Прознал, что Антонина Васильевна, из пшеничной котловины, корову со страху режет, пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал -- тенью. Не видела его Антонина Васильевна: рубила в корытце студень. Стоял дядя Андрей у притолоки, смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложены -- бурая печень, мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец мокнет.
Повернулась Антонина Васильевна -- ахнула: испугалась тени.
-- Что... вы?.. Вы это... дядя Андрей?! Что с вами?..
-- Дайте... за-ради Бога... кишочки...
Дала ему Антонина Васильевна пригоршню "рубки" -- для холодца, отрезала и рубца, с ладонь, и ребрышко. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво, сказал хрипом:
-- Нутро у меня повернуто... всю утрибку мою поспутало-завязало... какое-бы... средство?.. Гляжу, а в глазу трусится... упасть боюсь...
Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам -- за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка?
-- А жевать нечем... зубы все растерял... Говорил "евать" и "убы".
-- Где же вы их потеряли-то, так сразу?
-- Так... о камень...
Проходил с неделю, стало его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарюк Григорий жить приказали, -- пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду.
Спросила его Марина Семеновна сурово:
-- Разве вы чего тут забыли?
-- Я тут ничого не забул... -- жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный.
Рассказывала про это свидание Марина Семеновна -- жалеть не жалела:
-- ...А ветер был, с Чатырдага, холода завернули. А он стоит и стоит, трясется.
-- Чего вы стоите... сядьте на табурет. Сел он на табурет, на кончик. Оглянул комнату, все глазами прощупал, и говорит:
-- Одеялы у вас... знаменитыи... найдуть -- возьмут.
А я говорю ему:
-- Вы чего это в узелке держите, куда собрались?
Сказал, что проститься зайдет с покойником, с Григорием, -- четвертый день все не похоронят. У них и переночует, -- дома-то холодно, силы нет дровец нарубить, от холоду не спится. А поутру в больницу -- думает.
-- Очень, -- говорит, -- у меня все внутри ломит, и как огнем палит. Может, -- говорит, -- меня параличом расшибло, снутри! Во мне, -- говорит, -- вроде как крыса завелась, грызется.
-- Не от козлиного ли смальца, дядя Андрей? -- говорю. Очень меня досада одолела -- все ему высказать.
-- Не ел я вашего козлика! Зачем вы так?!
А не смотрит. А я ему на это:
-- Вы и Тамарку не трогали, и гусей, -- говорю, -- и уточек моих не пробовали... А помните, -- говорю, -- дядя Андрей, как я вам в саду-то нагадала? Как вот снег упадет...
Как затрясется! Страшный, как смерть, стал.
-- Будут вас, дядя Андрей, черви есть! Как вы моего козлика, так и они вас... И будет, будет!
Все во мне поднялось опять, себя не слышу.
-- Я, -- говорю, -- вчера на вас карты раскидывала, на виневого короля... вы! Конец вам вышел! Вот он, конец, и есть!
-- Да я ж, -- говорит, -- вовсе не виневый... Я... жировый!
И тут не сознается! Тут уж я прямо не в себе!..
-- Это, -- говорю, -- жировый-то вы с жиру да смальцу! А вы черный, весь вы черным-черный, как вот... земля! На лице-то у вас... земля выступила!..
-- Видите... -- говорит, -- уж помираю я, а вы... меня добиваете.
-- А вы, -- говорю, -- сироток моих добили! Гаснут!
-- Ну, простите, коли так... Не я добил... а нас всех добили...
И не сказал, а... всхлипнул! Тут мне его жалко стало.
-- Ну, -- говорю, -- дядя Андрей... я вам простила, а судьба не простила. Не от меня это, что помираете... и дня не проживете, вижу. Судьба... Ну, вот, хлебца я вам дам... от жалости дам хлебца... напоследок покушайте... сегодня пекла, три фунта.
-- Отрезала ему кусочек, теплый еще. Так и вцепился. И... покрестился, как из рук хлебушка взял! Так мне это понравилось!.. Душа-то православная...
Я ему еще дала кусочек -- в дорогу. А ветер так и гремит, вьюшки прыгают, страсть Божия. Вот он и другой кусок сжевал, отогрелся. И говорит:
-- Ну, посидел я. Это вы хорошо, мне теперь легко будет...
И голову опустил. А уж и спать пора давно, двенадцатый час.
-- Пойду, -- говорит, -- к Настасье, вдове... может, мне куртку покойникову надеть займет, а то больно зябко в больницу идти. Я, -- говорит, -- жил самостоятельно, а вот как эта канитель-то вся пошла, слобода-то ихняя... как обменили всех...
За руку простились. Покрестила я его вослед. Что уж...
Пошел дядя Андрей ночью на мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. В свою комнату не допустила, а пусть с покойником ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину, кожанку.
Опять на ветер идти? Замерз дядя Андрей в майском костюме из парусины с кресел исправничьих. Остался. Лежал Одарюк на полу, в пустой комнате бывшего пансиона, им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в угол, узелок в голову, а кожанкой накрылся. А когда стало белеть за окнами, надел кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настасья -- идет в мужникой кожанке, -- нагнала на дороге:
-- Снимай, проклятый! Григорья погубил... куртку уворовать хочешь?!
Сорвала с него куртку да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру, на пустой дороге, у миндальных садов порубленных, хлестала его обезумевшая Настасья по голове курткой. А он только рукою так, прикрывался...
Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара, в безлюдном переулке, присел к забору, в майском своем костюме, загвазданном. Нашли прохожие, а он только губами двигает. Доставили в больницу. До полудня не дожил -- помер. Так отошли все трое, один за одним, -- истаяли. Ожидающие своей смерти, голодные, говорили:
-- Налопались чужой коровятины... вот и сдохли.
Часть 34. Конец концов.
|